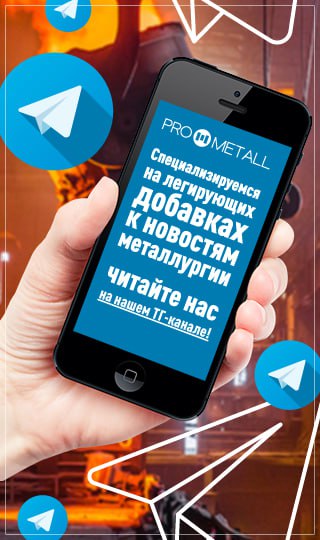Опытные чиновники, проработавшие много лет в различных министерствах, отлично знают, что любые Стратегии надо начинать читать с конца, поскольку вся конкретика в них содержится именно в многочисленных Приложениях. Нынешняя Энергетическая стратегия исключением не явилась — вся её соль спрятана в Приложении №7.
Оно называется: «Перечень технологий, оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения, востребованного организациями топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, создание или локализация производства которых необходимы на территории Российской Федерации до 2050 года».
Это буквально то, чего нам конкретно не хватает, чтобы полностью реализовать эту Стратегию. В перечне 138 позиций, и здесь сразу представляется задумчивое лицо Штирлица с титром: «информация к размышлению».
До Перечня мы обязательно дойдём, но сначала несколько слов в целом о восприятии этой Стратегии.
Адекватность с политическим оттенком
Сразу оставим за скобками мнение нигилистов-скептиков, у которых каждая такая стратегия повышает уровень жёлчи. Да, понятно, что это до 2050 года и что много воды утечёт и чиновников тоже. Но это ведь не план действий, который подразумевает и некий отчёт через 25 лет. Хотя десяток страниц авторы и посвятили тому, что правительство уже сделало. Так, на всякий случай.
Вообще, Стратегия — это просто видение на перспективу, как оно должно быть, некий срез знаний, понимания трендов и прогнозов, которые существуют здесь и сейчас. Тест на адекватность и реалистичность, если хотите.

Энергетическая стратегия в целом оставила позитивное впечатление своей адекватностью.
И вот в этом смысле, Стратегия скорее оставляет положительное впечатление. Видно, что авторы живут не в розовых очках и не рисуют иллюзорных картин нашего энергетического триумфа и гегемонии через 25 лет.
Единственное, что смутило: порой чрезмерный геополитический крен. Такое ощущение, что некоторые параграфы редактировали специалисты из МИДа. Например, в качестве основных тенденций мировой энергетики названа вот такая:
«Ускорение перехода на альтернативные источники энергии и внедрение энергоэффективных технологий недружественными государствами будут стимулироваться политикой декарбонизации и введения квот на выбросы парниковых газов».
Получается, что «зелёная повестка» — это вроде и не стратегический прогресс в долгосрочных интересах всего человечества, а больше инструмент геополитического воздействия со стороны недружественных стран.
Но, может, мы просто неправильно перевели с канцелярского, тем более что буквально рядом в тексте фигурирует свободный от политики пункт.
«Развитие альтернативных технологий, используемых в энергетике, в том числе хранения электроэнергии, улавливания, использования и хранения диоксида углерода и вторичной переработки».

Ветрогенерация уже давно стало частью европейских пейзажей.
Новые тренды в повестке
Если говорить о горно-металлургической отрасли, то Энергетическая стратегия затрагивает, в основном, проблемы и интересы угольщиков. Про уголь там целые разделы. Главным образом, конечно, про энергетический уголь, а не про металлургический. Указано, например, что «в угольной отрасли запасы угля Российской Федерации составляют 272,7 млрд тонн, что обеспечивает более 500 лет добычи».
Для угольщиков и отдельные задачи поставлены. «Совокупность всех имеющихся возможностей угольной отрасли позволяет достичь к 2050 году добычи в объёме более 600 млн тонн (3-4-е место в мире) и занять четвёртую часть международного рынка (2-е место)».
Про желаемые экологические показатели для угольщиков тоже упомянули.
«В результате выбросы парниковых газов в угледобыче и обогащении к 2050 году снизятся на 25 процентов».
Ещё один интересный прогноз, он же задача. «Показателями решения поставленных задач являются увеличение доли открытого способа добычи угля в общем объёме добычи с 77,7 процента в 2023 году до 80–83 процентов в 2036 году и до 82–85 процентов в 2050 году».
Про металлы всё намного скромнее. Ясно, что документ про энергетику. Но в то же время, если мы говорим о межотраслевом взаимодействии и межотраслевом балансе, горно-металлургическая отрасль является одним из драйверов всего энергетического комлекса. В Стратегии, к примеру, упомянули и не раз мини-АЭС (на базе атомных реакторов РИТМ-200), которые сейчас активно строит Росатом.

Про уголь в Стратегии написано очень много.
Про Северный морской путь тоже неоднократно написали, насколько он важен. Вот, к примеру: «обеспечение круглогодичных поставок по Северному морскому пути позволит достичь целевых показателей по экспорту и добыче углеводородного сырья».
Но два этих тренда (мини-АЭС и СМП) фигурируют как бы отдельно друг друга, во всяком случае в документе.
А вот горно-металлургическая отрасль вполне могла бы стать тем самым мостиком, который эти тренды увязывает в единое экономическое целое. Хотя бы применительно к освоению новых месторождений в арктической зоне и вообще в северных широтах. Мини-АЭС обеспечивает их электрификацию, а по СМП вывозится продукция.
Впрочем, тема транспортной инфраструктуры заслуживает отдельного материала. Хотя бы по тому, что про тот же Восточной полигон в Стратегии написано коротко и как-то безнадёжно, как неутешительный медицинский диагноз.

Строительство мини-АЭС может дать сильный импульс развитию горно-металлургической отрасли.
Про металлы тоже не забыли
Цитируем дальше Стратегию: «Спрос на различные виды минерального сырья, востребованные в энергетике, такие как литий, никель, кобальт, марганец, графит, редкоземельные металлы, алюминий, медь, быстро растёт в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, включающей возобновляемые источники энергии и системы накопления электрической энергии. Это создаёт новые возможности для эффективного освоения минерально-сырьевой базы энергетического сырья Российской Федерации, обладающей значительным ресурсным потенциалом». Тут, как говорится, все по существу и актуально.
Дальше, правда, идёт довольно спорная фраза. «При этом литий, марганец, графит, редкоземельные металлы в нашей стране отнесены к дефицитным видам твёрдых полезных ископаемых, требующих реализации необходимых мер в первоочерёдном порядке».
Это литий у нас в дефиците? У нас-то его очень много. Во всяком случае, сырья для его производства. Другой вопрос, что чудовищная волатильность мировых цен на литий не даёт сейчас возможность разрабатывать наши месторождения с приемлемой (это мягко говоря) рентабельностью. Вот и закупаем сырьё в Латинской Америке.
Про РЗМ можно сказать тоже самое. По разведанным запасам редкозёмов Россия на третьем месте в мире. Какой уж тут дефицит? Технологии тоже у нас есть, просто производства надо развивать и мощности наращивать. На это нужно деньги, а про них в Стратегии говорится не очень многое. Например, вот такой лаконичный пункт, не применительно к металлам, а вообще.
«Отсутствие долгосрочного заёмного финансирования»…
К слову, про ключевую ставку в Стратегии ничего не говорится. Хотя было бы интересно узнать, какой она будет в 2050 году. Шутка, конечно, но какая-то грустная.

Литий мы пока что импортируем в основном. Свой производить не особо рентабельно.
В Стратегию проникли цифровые двойники
Разумеется, в любом программном документе сегодня не обходится без упоминаний о цифровизации и искусственном интеллекте. Энергетика не исключение.
«Цифровая трансформация путём автоматизации и роботизации позволит увеличить долю автоматизации процессов до 70–80 процентов, а совокупный уровень промышленной роботизации — до 60–70 процентов. Цифровые двойники активов предприятий позволят нарастить долю инженерных изысканий, выполняемых искусственным интеллектом, до 30–40 процентов, что повысит качество и оперативность принятия решений. Совокупное применение всех проектов позволит в 1,5 – 2 раза повысить производительность труда».
Логично, что авторы композиционно вставили про роботизацию в том разделе, где говорится про дефицит кадров. Не про мигрантов же там писать.
И ещё про искусственный интеллект (применительно к геологоразведке): «Использование искусственного интеллекта в геологоразведочных работах и в целом на производстве, а также развитие трудноизвлекаемых запасов позволят вовлечь в разработку более 5 трлн куб. метров неразрабатываемых запасов с уровнем добычи более 50 млрд куб. метров».
Здесь всё по делу. Геологоразведка — это работа с огромными массивами данных, а ИИ тут вне конкуренции. Осталось дело за малым — как-то внедрить все эти разработки на практике и желательно побыстрее, чтобы всё это заработало. А то многие аукционы на разработку уже разведанных месторождений выглядят пугающе пустынно в плане участников.

ИИ уже работает в горнодобыче.
Без декарбонизации всё же никуда
Недвусмысленно намекнув в начале Стратегии, что декарбонизация лоббируется в мире недружественными странами, её авторы всё же признают, что без неё не обойтись.
«Учитывая сложившиеся тенденции, развитие мировой энергетики будет определяться темпами роста энергопотребления и динамикой изменения структуры энергобаланса на фоне поиска баланса между политикой по декарбонизации и экономической целесообразностью принимаемых решений».
Тут главное и самое мудрое слово — «баланс». Именно поэтому Стратегия и вызывает в целом позитивные впечатления своим реализмом. «В целом по миру доля возобновляемых источников энергии в общей структуре энергобаланса будет увеличиваться опережающими темпами. При этом с учётом растущего спроса на энергию ископаемые виды топлива по-прежнему будут составлять основу мировой энергетики как минимум до 2050 года, а физические объёмы их потребления будут сохраняться на текущем уровне или расти».
Ну, то есть Европа может не обольщаться со своими ветряными мельницами. Добываем дальше.
Антон Белов
Продолжение следует…